Фёдор Успенский в День филолога: о чём говорят наши имена
Фёдор Успенский в День филолога: о чём говорят наши имена
Ежегодно 25 мая в России отмечается профессиональный праздник специалистов в области языка и литературы — День филолога. Этот праздник объединяет лингвистов, литературоведов, преподавателей в области языка и литературы, библиотекарей, переводчиков-филологов и всех, кто имеет филологическое образование.
В нашей традиционной рубрике «Разговор с учёным» директор Института русского языка РАН член-корреспондент РАН Фёдор Успенский рассказал о сфере своих научных интересов — исторической антропонимике, о феномене многоимённости в Средневековье, о том, как наши предки выбирали имена и какие с этим были связаны запреты.

О сфере научных интересов
Моя работа всегда строилась на пересечении интереса к языку и текстам — я филолог по образованию — и увлечения историческими сюжетами. Обобщённо можно сказать, что я изучаю историю Средневековья с филологической точки зрения: через язык, через тексты пытаюсь воссоздать ту реальность, которая за ними стоит.
Я долго искал те точки пересечения, где мои филологические интересы совпадали бы с интересом к Средневековью. В какой-то момент такие пересечения были найдены — даже не одна точка, а целое поле. Так я пришёл к тому, чем занимаюсь сейчас: исторической антропонимикой, то есть историей имён. Меня интересует: как выбирались имена? Что значило имя для человека, для семьи, для социума?
Я пытаюсь понять принципы, по которым имена функционировали. Почему ребёнку давали именно это имя, а не другое? Как оно связывалось с властью, с родом, с наследием? Это особенно заметно, когда речь идёт о княжеских или королевских династиях — русских или скандинавских. В династии имя становится чем-то вроде кода, в котором зашита информация о претенденте на престол. Очень важно, чтобы это имя было узнаваемо, чтобы его могли «считать» — и элита, и подданные. В нём должна быть отражена вся династическая программа, заложенная в носителе имени.
Об интересных открытиях
Мстислав Великий был известен под тремя именами: как правитель — Мстислав, в церкви — Фёдор, а в западных источниках — Харальд, по матери-англичанке. Именно на его примере я впервые столкнулся с феноменом многоимённости. Оказалось, что в Средневековье это было нормой: несколько имён отражали разные стороны личности, а одно имя — скорее исключение.
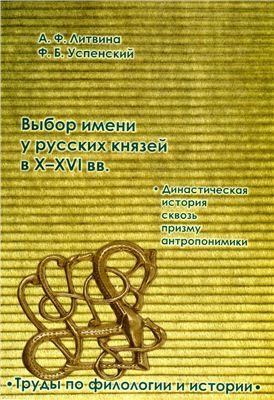
Система многоимённости в Средневековье формировала целую культурную логику. Люди использовали разные имена в зависимости от ситуации — и чётко знали, когда уместно то или иное. Имя Мстислав — династическое, княжеское. Имя Фёдор — церковное: именно под ним он крестился и причащался, ведь Мстислав не входило в святцы. А имя Харальд использовалось в западной традиции, отсылая к его английскому происхождению — его дед был королём Харальдом Годвинсоном. Эти три имени отражают три стороны одного человека — и в этом переплетении смыслов заключена удивительная черта средневековой культуры, которая меня до сих пор восхищает.
Запретные имена
В русской княжеской династии существовала жёсткая граница: имена вроде Мстислав, Ярослав, Владимир, Изяслав могли носить только князья из династии Юрьевичей. Даже знатный боярин не мог получить такое имя — это было исключено.
Но при этом князья и народ должны были как-то пересекаться, находить общий код. Такой точкой соединения становились христианские имена. Они брались из церковного календаря: Фёдор, Иван, Андрей, Пётр — это были универсальные имена.
Их мог носить и простой человек, и князь, правящий этой землёй. Это была своего рода «нейтральная зона», нечто вроде общего юникода — христианское имя не несло той социальной иерархии, которую обозначали имена княжеские.
О традициях выбора имени на Руси
Одно из главных правил — называть ребёнка родовым именем, уже использованным в семье, чаще всего в честь умерших родственников. Пока человек жив, его имя считается занятым, но после смерти оно переходит новорождённому, который тем самым продолжает личность предка. Это не буквальная реинкарнация, а идея возрождения в потомке. В родовом сознании смерть не окончательна — один уходит, другой приходит, сохраняя линию и функцию.
У князей существовал строгий запрет на наречение детей именами живых предков — например, сына нельзя было назвать Всеволодом, если отец с этим именем ещё жив. Это правило касалось только княжеских, дохристианских имён. В то же время имена из церковного календаря — Фёдор, Иван, Василий — могли повторяться без ограничений: Иван Иванович или Василий Васильевич были обычными сочетаниями.
Несмотря на ограничения, люди обходили правила: если отец не мог дать своё княжеское имя, он выбирал имя с тем же корнем и смыслом. Например, князь Всеволод назвал сына Владимиром — оба имени связаны с корнем «влад» (власть). При крещении сын получил христианское имя Дмитрий, как и отец.
Книжные рекомендации
Тем, кого увлекла антропонимика и историческая ономастика, я могу посоветовать нашу в соавторстве с Анной Литвиной книгу «Выбор имени у русских князей в X–XVI вв.: Династическая история сквозь призму антропонимики». Отдельно я рекомендовал бы серию книг «Жизнь замечательных людей»: биографии Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Юрия Долгорукого и Владимира Мономаха», написанные Алексеем Карповым; биографии Бориса Годунова и Василия Шуйского, написанные Вячеславом Козляковым; биография Ивана Грозного, написанная Борисом Флори. Эта серия отлично подходит тем, кто хочет увлекательно и доступно узнать историю России через судьбы её выдающихся личностей.